Научно-исследовательское легкомыслие
Сочинение Диметила Ивановича Сульфоксидова
– Только, брат, расплываться не следует – вот что! не надо лезть в задор! Тише! Тише!
– То есть как же это: не расплываться?
– Ну да; вот, например, если взялся писать о ссудно-сберегательных кассах – об них и пиши! Чтоб ни о социализме, ни об интернационалке… Упаси бог!
– Это вследствие свободы печати, что ли?
– Ну да, и свобода печати, да и вообще… расплываться не следует!
М.Е.Салтыков “Дневник провинциала в Петербурге”
Думаю, что не нужно подробно объяснять, почему легкомыслие играет такую важную роль в жизни отдельных людей и целых человеческих обществ. Благодаря легкомыслию человек с лёгкостью преодолевает преграды, которые человеку вдумчивому кажутся непреодолимыми; благодаря ему человек усматривает препятствия и опасности там, где человеку вдумчивому кажется достаточным пожать плечами; наконец, благодаря ему, – единственно благодаря ему! – человек может быть “счастлив” там, где человек вдумчивый может только страдать. Итак, важное значение легкомыслия, “сего смазочного материала механизмов общественного сознания”, по выражению генерал-майора Отчаянного, не подлежит сомнению. Тем более удивительным представляется то обстоятельство, что легкомыслие до сих пор ещё не изучено так подробно и тщательно, как оно этого заслуживает. Не претендуя наполнить эту бездну целиком, я решил, что анализ легкомыслия одного специального вида, а именно – легкомыслия научного, будет небесполезен как подготовительный материал для создания “Всеобщей истории легкомыслия”.
Главная отличительная особенность легкомыслия – та, что оно никогда не улавливает связи между отдельными явлениями и фактами. В этом неулавливании есть три главных фасона, или оттенка:
1) оттенок искреннего заблуждения: “Да что это вы! я совсем об этом не думал!”
2) оттенок равнодушия: “Ну и что? Да мне-то какое дело?”
3) оттенок остервенения: “Не знаю и знать не хочу! Вы это прекратите!”
Различие этих фасонов не должно, однако, вводить в заблуждение: это не наивность, не равнодушие и не остервенелость, а именно только легкомыслие, то есть не-делание очевидных выводов из очевидных фактов, стремление мыслить в рамках полицейски дозволенного и логически недопустимого, стремление ограничить область действия мысли заранее определённым забором, зачастую проведённым совершенно произвольно: вот здесь, в ограниченном вольере, мысль имеет право развиваться и порхать свободно, а за забор – ни-ни. Заборы можно строить из наивности, равнодушия или остервенелости – но всё равно это будут заборы.
Как только речь заходит о заборах, то сразу же является непреодолимое желание спросить, кто, каким образом и зачем эти заборы устраивает? кому выгоден такой порядок, что Филипп Рылобейщиков, сомневающийся в глубине души в законе Ома, имеет тем не менее полное право служить в министерстве физики и сомневаться на всей своей воле, и тот же Рылобейщиков, перейдя на службу в министерство преуспеяния, не имеет права сомневаться в преуспеянии нашего народа? Ведь невозможно сомневаться, что жизнь наша устроена ещё не так хорошо, как того российские обыватели за их хороший образ мыслей заслуживают. Стадо быть, не видно рациональных причин разделять сомнения Рылобейщикова на позволительные и непозволительные: ведь в любом случае ни закон Ома, ни наше преуспеяние никак не могут пострадать от того, что кто-то в них сомневается. Казалось бы, можно пустить сомнения произрастать на всей их воле и мысли – порхать, где им угодно; или наоборот, если уж народное преуспеяние – такая тонкая материя, что сомнения могут ей повредить, и вследствие того нуждающаяся в покровительстве заборов, то отчего же закон Ома находится в таком пренебрежении, что почти совсем не ограждён забором и всякий – буквально всякий! – может подкапываться под него? Отчего предполагается, что Филипп Рылобейщиков, подкапываясь под закон Ома, не может нанести отечеству ущерба, а подкапываясь под гораздо надёжнее обоснованный закон народного преуспеяния – может?
Должен признаться, что ответить на подобные вопросы, естественно слетающие с языка при виде такого диковинного обстоятельства, как мысль, заключённая в острог, подробно и убедительно я не в состоянии. Но с другой стороны, если не давать на них ответа – уж лучше не браться рассуждать вовсе. Потому отвечу кратко, как умею.
Прежде всего, я решительно против того мнения, что заборы и остроги для мысли устраивает какое-то сверхъестественно дальновидное, предусмотрительное и коварное начальство в видах ограждения собственного преуспеяния от нескромных вопросов. Во-первых, такая модель начальства ни на чём не основана. Оно, конечно, дальновиднее и предусмотрительнее обывателей, но не настолько, чтобы предвидеть все те неисповедимые пути, по которым отправится блуждать мысль Филиппа Рылобейщикова, будучи выпущена из острога и лишена руководящих указаний. Коварство же не только не свойственно начальству, но прямо несовместимо с ним. Ему скорее свойственно прямодушие и откровенность, потому что оно гораздо чаще говорит о недостатке, формальности и поверхностности критической мысли, чем о её изобилии, остроте и глубине. Во-вторых, если личный взгляд того или иного начальника и влияет на определение грани, отделяющей мысль безопасную от мысли опасной, то тем самым достигается только перемещение забора на несколько аршин в ту или другую сторону. Самое мудрое и просвещённое начальство способно только перемещать заборы, но не создавать и не уничтожать их, – так формулируется закон сохранения заборов, с высокой точностью выполняющийся в окружающем нас мире.
Создание и уничтожение заборов зависит от совсем других процессов, из которых не последнюю роль играет движение повальной мыслебоязни. Закон этого движения ещё не установлен в точности, спорным, в частности, представляется тезис о монотонном возрастании мыслебоязни в процессе развития общества. Но если не принимать во внимание это возрастание, то движение мыслебоязни можно уподобить прецессии волчка. Осью этой процессии является утверждение, что всякая мысль есть зло, с трудом поправимое даже деспотизмом, что естественному человеку не свойственно мыслить и чем меньше он мыслит, тем прочнее его благополучие и сильнее любовь к отечеству и начальству. Вокруг этого центрального тезиса и вращается вектор мыслебоязни, обращаясь последовательно во все стороны света. Было время, когда боялись мысли, что бога нет; потом боялись мысли, что есть душа у лягушки; потом – что есть в России пролетариат, потом – что от свиньи родятся не бобрёнки, а всё поросёнки; потом – что нет в России пролетариата, и т.д., и т.д. Остроги вокруг тех мыслей, которых боялись прежде и теперь перестали, постепенно приходят в упадок, остроги вокруг тех мыслей, которых прежде не боялись и теперь испугались, растут и расцветают, но внутренние свойства самих мыслей тут не играют никакой роли: боятся ведь не оттого, что понимают, а от того. что не понимают.
Но так как прецессия вектора мыслебоязни – процесс сравнительно медленный, то для понимания роли заборов полезна и другая модель – статическая. Чтобы уяснить её, перенесёмся мысленно в уездный Российской империи город Ударнокомсомольск и рассмотрим особенности его планировки. Первое, что бросается в глаза – то, что обывателям предоставлено ходить только по улицам, огороженным со всех сторон заборами с надписями “Посторонним вход запрещён”, “Осторожно, злая собака”, “Не влезай – убьёт”, “Граница поста № 2” и т.п. Отчего так выходит, что обывателям не предоставлено заходить во дворы, а предоставлено слоняться по улицам, огороженным со всех сторон? Это происходит не от того. что кто-то злонамеренно обнёс выгон для обывателей забором, чтоб уязвить их, а от того, что выгон, предоставленный ударнокомсомольцам, есть место, оставшееся заштатным после размежевания территории города заинтересованными ведомствами. Каждое ведомство оградило свой участок забором, который, в соответствии с элементарной теорией заборов, представляет собой простую замкнутую кривую; а эта кривая, в полном соответствии с теоремой Жордана [53, с. 200], разделяет плоскость города Ударнокомсомольска на две связные открытые области: внутреннюю, куда, в силу этой теоремы, посторонним вход воспрещён, и внешнюю, предоставленную обывателю. По многочисленности ведомств в Российской империи и огороженных областей выходит немалое количество, – что ж удивительного, что внешняя область и мала, и узка, и причудливо вытянута? Если на улицах Ударнокомсомольска две арбы не могут разъехаться, то не заборы тут виноваты, а единственно теорема Жордана.
Чтобы применить градостроительную практику Ударнокомсомольска к анализу условий развития мысли, введём функцию вредоносности мысли, аргументом которой является собственно мысль, а значением – производимый ею вред. Если рассматривать её как комплекснозначную функцию комплексного переменного, то действительная часть аргумента есть действительная мысль, высказанная человеком, а мнимая часть – та мысль, которую он хотел, но не решился или не посмел высказать (задняя мысль); соответственно действительная часть значения функции есть действительный вред от мысли, а мнимая часть – мнимый вред. Применение аппарата функций комплексного переменного совершенно естественно, так как если уж принять тезис о вредоносности мысли, то надо признать, что она зависит не только от действительной, но и от мнимой её части; не только от того, что говорит мыслитель, но и от того, что и как он не говорит (главное – как!).
Так вот, рассматривая вредоносность как функцию комплексного переменного, теоретики забороведения установили, что она имеет множество полюсов, которые уместно называть полюсами вредоносности, в которых значение функции обращается в бесконечность, и чтоб не допустить мысль в эти точки, надобно их окружить заборами, имеющими форму жордановых кривых (иначе их называют разрезами). В этом случае во внешней области функция вредоносности будет аналитична, и по замечательной теореме о максимуме модуля [53, с. 206], абсолютное значение вредоносности достигает максимума в точке, лежащей на одном из заборов, и в любом случае конечно. Перемещением заборов можно достичь того, что значение этого максимума может быть сделано меньше любого наперёд заданного числа, и таким образом система огораживания заведомо гарантирует ограниченность абсолютной величины вреда, проистекающего от мысли. Так что если не пускают мысль туда, куда посторонним вход запрещён, то не заборы тут виноваты, а единственно Огюст Коши и Бернгард Риман, создавшие теорию аналитических функций.
Аналитическая теория заборов, изложенная вкратце выше, имеет бесчисленные и полезнейшие практические последствия, из которых ради краткости упомяну лишь несколько. Мир, в котором обуздание мысли производится при помощи заборов, является наиболее разумно и здраво устроенным, гармоническим миром; не случайно действительная и мнимая вредоносность мысли – гармонические функции, то есть совершенные в некотором смысле (как действительная и мнимая части всякой аналитической функции). Всякая гармоническая функция, как гласит теория потенциала [53, § 15.6], имеет смысл потенциала некоторого поля (потенциала мысли в нашем случае), а градиент её – напряжённости этого поля (напряжённости мысли). Основное свойство всякого потенциала – то, что работа мысли при перемещении по замкнутому контуру (то есть сумма мыслительных усилий, требующаяся для продвижения в заданном направлении), всегда тождественно равна нулю. Этим замечательно объясняется то свойство обузданной мысли, когда она обойдя различные края и взвесив по дороге множество соображений, возвращается к исходному пункту своего движения с целью прийти к окончательным результатам, то никаких результатов никогда не оказывается.
Мы видим, что учения, призывающие уничтожить или обуздать мысль, обладают внутренней логикой и развитым математическим аппаратом; единственный вопрос, возникающий в связи с ними – это насколько обоснован сам исходный постулат учения, утверждающий гибельность мысли для человека?
Я уверен, что такая постановка вопроса смущает не только меня, но и всякого человека, не окончательно потерявшего совесть. Ответ на этот вопрос совершенно очевиден, но очевидность эта двоякого рода: той очевидной очевидности, что всё, чем существование человека отличается от дикого животного, есть продукт мысли, противопоставляется ещё более очевидная очевидность, что подавляющее большинство людей именно в мысли видит источник своих бед, и мечтает, как бы устроиться, чтоб думать поменьше, а кушать побольше.
С одной стороны, совершенно очевидно: всё, чем современный человек отличается от своих скачущих по ветвям собратьев, есть результат работы мысли, исключительно мысли и одной только мысли. Если современная трёхкомнатная малогабаритная пещера чем-либо отличается от пещеры из первобытного асфальта, так это всё от того, что поколения безымянных изобретателей выдумывали эти усовершенствования и терпеливо их применяли; если первобытный закон, по которому из десяти новорождённых только один доживал до десяти лет, сменился на закон, утверждающий обратную пропорцию, так это всё от того, что находились люди, не признававшие естественности и неизбежности кошмара детской смертности, а мучительно думавшие, как её победить; если мы сейчас имеем возможность испытывать высочайшее идейно-эстетическое наслаждение, читая бессмертные строки
Ленін! Всього лишь
П’ять літер!
А скільки енергій!
Так рвіте ж!
и даже не задумываемся при этом: кого рвать? что рвать? зачем рвать? – так это всё от того, что были люди, не признававшие вредности поэтической мысли, а неустанными трудами доказывавшие, что поэзия способствует приятному пищеварению.
Да, всё это очевидно, – очевидно настолько, что неловко даже доказывать. Но с другой стороны, не менее очевидно, что сама медлительность и незаметность, с какой результаты работы мысли изменяют условия жизни людей и саму их психологию и этику, сама историческая практика, гласящая, что мысль никогда не допускается на арену практической деятельности прямо, а всегда только с чёрного хода, сама практика, выразившаяся в бессмертных и гениальных строках
Тише, ораторы!
Ваше слово, товарищ Маузер!
– сама эта замечательная практика внушает широким массам людей, что мысль есть что-то неглавное, второстепенное в жизни человеческого общества, что сосание лапы совместимо с малогабаритной трёхкомнатной пещерой, что равномерное обрастание человеческого тела шерстью не приведёт к увеличению детской смертности и что стрельба из маузера есть не упражнение в убийстве людей, но упражнение в поэтическом искусстве. Все эти люди подспудно уверены, что можно уничтожить мысль и при этом не повредить тех благ, которые её работа в прошлом им доставила. К сожалению или к счастью, но они не могут выразить этого своего убеждения словами, поскольку способность выражаться ясно, определённо, членораздельно и понятно для окружающих каким-то дьявольским образом неразрывно связана со способностью мыслить, и человек, берущийся проповедовать ненависть к мысли, как-то неизбежно утрачивает способность к употреблению знаков алфавита (это ещё Салтыков в “Письмах к тётеньке” заметил). Так или иначе, люди, руководящиеся в своей повседневной практической жизни боязнью и ненавистью к мысли, неспособны изобрести даже действенных мер по её истреблению и повсеместному введению одичания, поскольку даже такая элементарная выдумка всё же требует работы мозговых извилин. В результате все меры по уничтожению мысли открываются методом ползучего эмпиризма и в конце концов демонстрируют-таки свою несостоятельность и негодность для достижения предположенной цели – несмотря на миллионы и десятки миллионов жизней, загубленных ради торжества этих мер…
Дорогой, очень дорогой ценой оплачивало и оплачивает человечество каждый свой шаг по пути к свободе мысли, то есть к полному развитию всего человеческого в человеке, и не пользоваться той её долей, которая уже отвоёвана – значит обесценивать принесённые жертвы…
Кроме откровенной мыслебоязни существует ещё такая её разновидность, как стыдливая или теоретическая, говорящая: тезис о том, что развитие мысли есть единственная цель, всецело достойная называться человеческой, приводит-де к тому, что все люди станут похожими на тех столпников, которых Феофан Грек нарисовал в церкви Спаса-Преображения на Ильине улице в Новгороде, то есть убивающих плоть аскетов, и что к идеалу торжества мысли нелишне прибавить хоть некоторую долю идеала бифштекса с кровью. Возражение это совершенно смехотворное, поскольку мыслебоязнь не может иметь последовательного теоретического выражения; она сильна не логикой, а отсутствием логики. Фактически же не лишне спросить таких теоретиков: где же был пример, чтоб усердная работа мысли обратила всех людей в столпников – хотя бы в одной, отдельно взятой стране? возможно ли это вообще? нельзя ли предположить, что такое разрушительное действие мысли возможно только в пределах одной, отдельно взятой головы, а не в действительности? и наконец, что привело современного человека к идеалу бифштекса с кровью от первоначального идеала сосновой коры, как не работы мысли, формирующая все потребности человека, какие только можно признать человеческими? не следует ли признать Рюрика, Синеуса и Трувора, впервые преподавших идеал бифштекса с кровью сиволапым поклонникам сосновой коры, населявшим Русскую землю, – не следует ли признать их за выдающихся проповедников, если не изобретателей, новой мысли? и если признавать правильной и допустимой ту работу мысли, которая привела русского мужика от идеала сосновой коры к идеалу бифштекса с кровью, то отчего же отрицать такую работу мысли, которая желает идти дальше этого идеала?
Однако обратимся от этих общих и потому неизбежно горестных рассуждений к рассуждениям более частным и потому более весёлым. Очевидно ведь, что чем уже предмет мыслительной деятельности, тем легче и приятнее становится работа мысли и тем веселее и жизнерадостнее сами мысли, так что человек, взявшийся писать о ссудно-сберегательных кассах или о недопустимости отождествления рабочей силы с товаром при абсолютной монархии и решивший при этом не расплываться, не случайно поражает нас своим сосредоточенным, но вместе с тем просветлённым и каким-то внутренне благостным видом, – рассуждая весело и о вещах весёлых, он приучается быть весёлым не только в делах службы, но и в личной жизни, тем более что он ясно понимает: никто его за эту весёлость не упрекнёт и не накажет, а по окончании работы даже скорее похвалят.
Используя терминологию изложенной выше аналитической теории заборов, можно сказать, что легкомыслие есть мысль, вредность которой аналитична в пределах предоставленного ей вольера и которая потому не способна совершить никакой работы. Любое легкомыслие никогда не останавливается над вопросом, кому и о чём оно даёт понятие, оно всегда питается своими внутренними стимулами к развитию, весьма далёкими от цели открытия и распространения нового знания. “Не распространение наук, но тщательное оных рассмотрение”, – так формулирует Салтыков конечный идеал легкомыслия, который со времён Д’Аламбера гласит, что знание должно быть не арсеналом оружия для борьбы за лучшую жизнь человека, а складом, в котором в беспорядке навален разный ненужный хлам, подлежащий рационализации и утилизации.
Любая мысль становится легкомыслием, если не додумывать её до конца, до её естественных пределов, до установления ясной связи между её предметом и общим течением нашей жизни. Салтыков не уставал твердить: только общие положения и идеи дают связь и смысл частным выводам и результатам. В отсутствие общей перспективы невозможно отличить не только ценную мысль от пустяковой, но даже правильную от неправильной. Речь при этом идёт не то что о невозможности соотнесения выводов мысли с фактами реальной жизни, – где уж нам, дуракам, чай пить! – а о гораздо более частном критерии логической полноты, завершённости и непротиворечивости теории. Образовав для себя забор из нерушимых аксиом, несомнительных догм и всё объясняющих цитат и признав элементы этого забора за непреложные правила игры в мысль, легкомыслие неизбежно останавливается в недоумении перед вопросом: а что же будет с его логикой, ежели какой-нибудь из элементов забора случайно обветшает или, не дай бог, совсем сгниёт? Взяли, например, себе легкомысленные социологи за аксиому, что войны между двумя абсолютными монархиями быть не может – и нарадоваться не могут красоте и стройности получаемых из неё выводов; но когда действительность всё-таки косвенным образом напоминает о себе и война между абсолютными монархиями принимает такие масштабы, что слухи о ней просачиваются и в область заборов, публика с неслыханным бессердечием отворачивается от подгнившей аксиомы и немедленно предаёт забвению всё основанное на ней легкомыслие. Спрашивается, однако, справедливо ли поступает в этом случае публика? По совести говоря – несправедливо, ибо её отрицание устаревшего легкомыслия основано не на сознании внутренней логической неполноценности последнего, но единственно на перемене моды. Но говоря таким образом по совести, нельзя не принять во внимание, что указание конечных, рациональных причин, в силу которых представляется необходимым аксиому о невозможности войн упразднить, а все прочие таковые же сохранить, – труд каторжный и совершенно напрасный, ибо аксиоматичность того или иного утверждения проистекает не от разума, а от общих закономерностей движения заборов. Так что когда публика хладнокровно забывает гениальные открытия вчерашнего легкомыслия и приклоняет ухо к таким же открытиям легкомыслия сегодняшнего, то в этом можно усмотреть даже нечто светлое, а именно – равнодушие к оттенкам легкомыслия, особенно если публика предаётся новому легкомыслию не с остервенением, а со спокойным сознанием, что место свято пусто не бывает.
Всякое учение, которое говорит: вот в этих вещах можно сомневаться, а вот в этих нельзя, – есть легкомыслие. Всякое учение, говорящее: в это не нужно вникать, это достаточно выучить наизусть, – есть легкомыслие. Всякое учение, говорящее: вот вопросы, на которые мы любим и умеем отвечать, а до прочих вопросов нам дела нет, – есть легкомыслие.
Легкомыслие заражает все области мыслительной деятельности, в том числе и научную. Последний вид легкомыслия особенно примечателен тем, что являет собой как бы правофлангового, по которому равняются все прочие виды легкомыслия. Эти другие виды усваивают себе некоторые характерные приёмы и повадки научного легкомыслия, которые среди несведущих людей слывут под именем научных методов, но по существу являются методами легкомыслия. Именно это распространение специфических приёмов научного легкомыслия на другие сферы и положило основание иллюзии о широком участии науки в современной жизни, о превращении её чуть ли не в непосредственную производительную силу и даже просто в непосредственную производительную силу, без “чуть ли”.
Первый специфический приём научного легкомыслия, очень сильно действующий и ставящий его сразу на недосягаемую для публики высоту, за пределы всякой критики с её стороны, – есть изобретение специального надъязыка, понятного создателям легкомыслия и непонятного посторонним людям. Элементарным методом в этом направлении является употребление множества тарабарских терминов вместо обычных слов, но гроссмейстерским приёмом являются создание надъязыка средствами широко употребительной лексики. Вот как пишет об этом специалист по семантике Б.А.Успенский:
“В качестве кода выступает язык (в семиотическом смысле [Который я называю надъязыком. – Д.И.С.]), определяющий восприятие тех или иных фактов, как реальных, так и потенциально возможных, в соответствующем историко-культурном контексте [Который я называю ноосферой. – Д.И.С.]. Таким образом, событиям приписывается значение: текст событий читается социумом. Можно сказать тогда, что в своей элементарной фазе исторический процесс предстаёт как процесс порождения новых фраз на некотором языке и прочтения их общественным адресатом (социумом).
Для описания языка некоторого историко-культурного ареала особенно показательны конфликтные, контроверзные ситуации, обусловленные столкновением разных языков по отношению к одной и той же действительности и обнаруживающие вообще неадекватное восприятие одних и тех же событий; в предельном случае возможна ситуация, когда отправитель и получатель сообщения по существу пользуются различными языками при одних и тех же внешних средствах выражения” [9, с. 286].
К примеру, встретился вам трактат, в котором каждое отдельное слово вам известно и понятно, но почему эти понятные слова выстроены именно в ту, а не в другую последовательность, образом какой мысли служит эта последовательность – вы уловить не можете. Это есть верный признак, что трактат написан на условном надъязыке, доступном только для тех, кто его понимает. Это означает, что автор вкладывает в известные вам слова не тот смысл, который вам понятен и привычен, а тот, который известен только ему. Не секрет ведь, что помимо тех значений слов, которые зафиксированы в академических словарях и которые образуют собой просто язык, в реальном живом языке существуют незримые контекстные связи между словами, не фиксируемые обычным тезаурусом, но существенные для изъяснения новых, нетривиальных понятий. Совокупность этих связей и есть надъязык. Скажем, академический словарь толкует слово “убийство” как “преступление”; в надъязыке людей, не отравленных легкомыслием, складывается под влиянием этого контекст “убийство –> преступление –> зло” и “массовое убийство –> тягчайшее преступление –> величайшее зло”. Но вот является писатель, говорящий: “Нигде человек не имеет таких прекрасных возможностей для проявления своей доблести, как истребляя врагов на войне”. Спрашивается, что же это такое? Это – условный, специальный, секретный, необщепринятый надъязык, в котором существует контекст “благо –> доблесть –> война –> массовое убийство”. Обвинить писателя в преступной игре словами мы не имеем оснований, ибо тезаурус не фиксирует смысловой связи между понятиями “война” и “величайшее благо” и ни один словарь, даже академический, не толкует слово “убийство” как “доблесть”. Если бы эти контексты были зафиксированы в словарях, то мы были бы вправе нарядить над писателем суд по обвинению в пропаганде именно этих контекстов, то есть пропаганде людоедства, но на нет даже в абсолютной монархии суда нет, или, иными словами, оставаясь на почве законности, мы не можем судить человека за преступления, не указанные в своде законов. Распространение легкомыслия (людоедского в нашем примере) достигается, как мы видим, не исправлением и дополнением словарей, а модификацией такой эфемерности, как надъязык. Мы читаем слова: “Делай добро другому”, сказанные много лет назад, и думаем, что понимаем их в точности так же, как и автор этих слов. Но мы забываем при этом, что в контексте нашего надъязыка значение их совсем не то, что много лет назад – не потому, что сами слова изменились, но потому, что изменилось общество, изменилась его ноосфера, изменился принятый в ней надъязык. И когда высказывается предположение, что много лет назад существовал надъязыковой контекст “заехать соседу в ухо” ( “сделать ему добро”, то мы начинаем сердиться и выдумывать опровержения – как будто можно возродить надъязык, умерший много лет назад…
Элементарные контексты условного надъязыка представляют собой как бы строительные блоки научного легкомыслия, и основной труд по его постижению – это представить себе реальную форму блоков по немногочисленным имеющимся чертежам их. Поэтому когда я встречаю трактат, написанный на непонятном мне надъязыке, то я по примеру людоедского надъязыка начинаю подозревать автора в жульничестве. Либо автор вовсе не сознаёт своей идеи и потому нанизывает сонные словеса, либо он, наоборот, чересчур хорошо понимает свою идею и стремится скрыть её чрезмерную гнусность или чрезмерную прогрессивность. К сожалению, гнусность встречается гораздо чаще, и это, я думаю, не случайно, а от того, что значение прогрессивной идеи и даже сам факт её прогрессивности неразрывно связаны с ясностью и доступностью изложения на общепринятом языке. Так что, может быть, и есть в публицистике М.Горького прогрессивные идеи, но скрыты они до такой степени тщательно, что только взгляд опытнейшего человеконенавистника способен проникнуть в те контексты, посредством которых оные идеи выражены.
Упражнение для самостоятельной работы: усмотреть надъязык, в рамках которого слова М.Горького:
“Я совершенно убеждён, что враг действительно существо низшего сорта, что это – дегенерат, вырожденец физически и морально” [3, т. 25, с. 174] –
были бы выражением прогрессивной идеи. Указание при решении: не следует ли понимать под “врагом” глуповского градоначальника Перехват-Залихватского?
Упражнение повышенной трудности: усмотреть надъязык, в рамках которого те же слова были бы выражением не только прогрессивной, но и благонамеренной идеи. Указание при решении: не следует ли понимать под “врагом” глуповского обывателя, не разделяющего представлений Перехват-Залихватского о существе обывательского счастья?
Вторая черта научного легкомыслия заключается в характерном ответе на вопрос: “Для чего же нужен этот условный надъязык?” Ответ этот состоит обычно в следующем: “Мы объясняем данный вопрос для себя, для собственного употребления; есть ли посторонние люди, для которых наш способ объяснения что-либо объясняет, мы не знаем и знать не хотим”. Принять основательность этого ответа – означает не только признать право говорить на условном надъязыке, но и право называть гуманистом человека, который на склоне своей жизни, после многих лет напряжённой работы и мучительных сомнений, пришёл-таки к выводам о неуместности людоедства и нечестности клеветы, причём оговаривает, что эти выводы имеют силу при соблюдении перечисленных ниже 78 условий. Конечно, такой мыслитель доказал для себя недопустимость людоедства, но что же делать другим, которые приобрели это убеждение в раннем возрасте? Каково им вникать в серьёзную и глубокую аргументацию такого тезиса? Представьте теперь себе человека, который открывает для себя интегральное исчисление, теорию относительности, закон Ома, происхождение государства Российского от варягов, – неужели выслушивать восторги этого человека не наказание? Более того, существование людей, открывающих для себя интеграл Римана, не даёт никакого права называть учёными людей, знающих об этом интеграле, и всякое колебание в этом вопросе есть релятивизм. Термин “учёный” имеет смысл абсолютный, означающий человека, открывающего новое не только для себя, но для всего человечества, для его самых светлых умов. Человек, открывающий для себя уже известные другим вещи, несомненно полезен как популяризатор знаний и должен называться таковым, но называть его учёным только на том основании, что он ничем не хуже других – недопустимо.
Легкомыслие именно очень любит в оценке качестве своей работы ссылаться на низкий уровень образованности мужика вообще и научно-исследовательского мужика в частности, на то, что для большинства их интеграл Римана всё ещё является непростывшей новостью, и очень не любит соотносить свои достижения с положением переднего края общечеловеческой мысли, для которой интеграл Римана всё же составляет глубокий тыл, и это третья его черта. Именно на основании этого легкомысленного резона выдумываются разные краткие и упрощённые науки, вроде военного интегрального исчисления, которые в сущности ничего не объясняют и не являются введением к настоящим наукам, а представляют собой легкомыслие в чистом виде, для внутреннего употребления, говорящее: “Даже если я ошибаюсь, то ошибаюсь именно таким образом, каким ошибается просвещаемый мною мужик, который благодаря этому поймёт то, что я хочу сказать, и не поймёт настоящего, правильного объяснения, если оно существует”.
Четвёртый характерный признак легкомыслия – нежелание знать предшественников, работавших в этой области, – нежелание, доходящее иногда до остервенения: “Да как этот Риман посмел открывать ту концепцию интеграла, которая составляет предмет моей диссертации! Взять бы этого Римана, да на Соловки!”. И когда ему отвечают, что Риман уже давно находится в местах значительно более отдалённых чем Соловки, что извлечь его оттуда нет никакой возможности, что даже справочник Г.Корна – и тот признаёт Римана фундатором интегрального исчисления [53, § 4.6-1], – то легкомыслие и на эти резоны отвечает: “Тем хуже для него”. Всякое легкомыслие тщательно обосновывает свою новизну, свой приоритет и своё лидерство, но поскольку в мировом масштабе все эти качества таковыми не являются, то естественно приходит желание ограничить выбор образцов для сравнения пределами одной, отдельно взятой страны и даже отдельно взятого департамента: “Во всякой луже найдётся гад, иройством прочих гадов затмевающий”, – так формулируется теорема о существовании максимального элемента в конечном множестве [53, § 4.3-3]; и руководствуясь этой теоремой, каждое легкомыслие ищет для себя такую лужу, в которой его доблесть заведомо превосходит доблесть соседей. Если в одной луже с изобретателем военного интегрального исчисления генерал-майором Отчаянным барахтается Бернгард Риман, то со стороны первого является естественное желание отгородиться от Римана забором: пусть Риман будет лидером в своей части лужи, а я – в своей. В результате мы видим, что легкомыслие огораживает себя забором для защиты своей новизны, своего права на существование от других таких же легкомыслий. Это существенное дополнение к аналитической теории заборов: несмотря на то, что безвредность интеграла Римана в точности равна безвредности военного интеграла, между ними всё же воздвигается забор.
Пятое свойство легкомыслия естественно вытекает из четвертого: поскольку алгоритм разделения лужи на подлужи можно применять неограниченное число раз, то всякое легкомыслие, начинаясь единым мощным потоком, стремительно разбивается на ручейки и малые струйки, каждая из которых тем не менее представляет собой совершенно замкнутый мир со всеми свойствами легкомыслия. Например, Дементий Варлаамович Брудастый пишет фундаментальный трактат “Уравнения мужицкой спины”. Его ученик и последователь Семён Константинович Двоекуров пишет трактат “Аппроксимация уравнений Брудастого”; далее Антон Протасьевич де Санглот пишет трактат “Свойства приближения Двоекурова в теории уравнений Брудастого”, Пётр Петрович Фердыщенко издаёт своё сочинение “Исследование метода де Санглота для решения уравнений Двоекурова”, и т.д., и т.д. Предмет легкомыслия – описание свойств мужицкой спины, в частности её неограниченной растяжимости, – при этом совершенно исчезает из поля зрения ввиду его очевидной ненадобности для развития легкомыслия, и когда Василиск Семёнович Бородавкин, обозрев деятельность своих предшественников, восклицает: “Давайте же вернёмся к рассмотрению мужицкой спины!” – то потомки вспоминают об этом как о кризисе в области уравнений Брудастого и научной революции, произведённой Бородавкиным. Ясно, что в условиях повального легкомыслия произвести революцию (научную, разумеется) так же просто, как плюнуть в потолок.
Шестое свойство легкомыслия является продолжением пятого и относится к форме представления легкомысленных научных результатов. С одной стороны, дробность и мелочность статей, с другой – их чрезмерное обилие; с одной стороны – ничтожность новых результатов, с другой – постоянное повторение общеизвестных вещей; с одной стороны – отсутствие общей руководящей мысли, системы, цели в работе; с другой – ненависть к самому представлению о цели, уверенность в ненужности и пагубности общих идей и даже идей вообще.
Невозможно привести примеры такого легкомыслия: с одной стороны, материала для них более чем достаточно, с другой – применяемые легкомыслием надъязыки носят слишком уж специальный характер, и потому многими принимаются за признак глубокомыслия. Легкомыслие даёт неисчерпаемый запас хорошего настроения для человека, одаренного одновременно и способностью понимать какой-либо условный надъязык, и чувством юмора. Сколько, например, доброкачественных и глубоко обоснованных улыбок и счастливого смеха вызвало предложение отделять золото от алмазов при помощи демонов Максвелла, – но увы! возможность благотворного воздействия юмора такого рода на широкую публику крайне ограничена, потому что для неё что демоны Максвелла, что военные интегралы – всё едино…
Узкая специализация и легкомыслие – вещи взаимосвязанные и взаимообусловленные; специализация вынуждает человека ограничиваться не естественными рамками предмета, а рамками требований к диссертациям, сложившимся исторически, легкомыслие же предлагает готовое оправдание этой ситуации: “Не расплывайся! Если сказано тебе – усовершенствовать изложение военного интегрального исчисления – ну так его и усовершенствуй, а то ведь если с точки зрения естественных границ на это дело посмотреть, так всё это исчисление надо выкинуть – хорошо ли оно изложено, плохо ли…”
Попытаемся всё же проиллюстрировать некоторые признаки легкомыслия: возьмём статью “Влияние поваренной соли на вкусовые качества гречневой каши”. Откуда возникла необходимость в таком исследовании? кто или что без него жить не может? и какие новые законы природы открыты в этой работе? как они соотносятся с теми законами, которые преподаются в качестве таковых в средней школе? нужно ли всем шестиклассникам прочесть эту статью, дабы привести свои воззрения на природу в соответствие с выводами современной науки?
Ни о чём подобном авторы и не задумывались, работая над этой статьёй! Из неё нельзя даже понять, влияет ли добавление соли на вкус гречневой каши или не влияет, нельзя даже понять, где авторы взяли гречневую крупу для своих опытов. Зачем же в таком случае статью было писать? Кому она нужна? Кто её читать и наизусть заучивать будет? Что хотели сказать авторы, кроме того, что живёт, мол, в городе Х Пётр Иванович Бобчинский?
Боюсь, что на все эти вопросы можно ответить только одним образом, а именно, что авторы над этим не задумывались. Они померили зависимость чего-то одного от чего-то другого – и “научная работа” готова. Искать в такой работе новое знание – совершенно анафемский и зачастую напрасный труд. Я даже предлагаю ввести, по аналогии с термодинамическим понятием свободной энергии, то есть энергии, могущей совершить работу, понятие свободного знания, то есть той доли знания, которую можно извлечь и эффективно использовать. Во избежание недоразумений подчеркну, что, рассуждая о свободном знании, я всегда имею в виду знание, которое можно использовать на пользу начальству, а не во вред ему. Сходство его со свободной энергией усиливается ещё и тем, что свободное знание не определено для произвольных малых кусочков текста, оно есть свойство коллективное, макроскопическое, характеризующее в целом законченную работу, книгу, биографию.
Например, предложение: “Для оценки степени корректности изложенного выше метода рассмотрим два образца каши, один из которых изготовлен без добавления хлористого натрия, а второй – с добавлением его в количестве 5 г/литр.” Само по себе такое предложение не может быть названо ни легкомысленным, ни глубокомысленным: всё зависит от того, что будет дальше. Предложение это подобно авторской ремарке перед началом пьесы: где стоят стулья, где расположены окна, в какую дверь выходит Марья Сергеевна и в каком фраке является Павел Андреевич – содержание и значение пьесы от этой ремарки не зависит, но тем не менее драматург без неё чувствует себя как-то неловко. Точно так же и автор научной статьи, не предупредив читателя, что “на сцене перед нами два образца каши…”, чувствует себя неловко. Он собирается нечто поведать человечеству, но ощущает, что прямо огорошить его секретом приготовления гречневой каши без крупы нельзя, что надо предварительно изъяснить обстановку, среди которой предстоит явиться означенной каше, и с этой целью начинает писание с ремарки. Но поскольку рядовой научно-исследовательский мужик не искушён в искусстве письменной речи (”Анну Каренину” он прочёл, но слово “свиной” по-прежнему пишет с двумя “н”), то после первой ремарки сразу начинает писать вторую, потом видит, что и здесь не исчерпал всей обстановки, и зачинает писать третью – и так до конца статьи. Представьте себе, что драматург начинает пьесу словами: “Комната представляет собой прямоугольный параллелепипед размером А1×А2×А3 метров, причём одна из осей направлена вертикально – в домах с наклонными стенами люди у нас живут только временно, от момента признания дома аварийным до момента переселения в технически исправный, то есть никак не более десяти – пятнадцати лет… А знаете ли вы, что значит ‘вертикально’? ‘Вертикально’ – это по отвесу, то есть по направлению к центру Земли, или, ещё точнее, по направлению силы тяжести в данной точке… Да! Но поскольку разные стены находятся в разных точках, то и направление силы тяжести в них различное, следовательно, противолежащие стены комнаты не совсем параллельны; следовательно, когда я говорил, что комната – прямоугольный параллелепипед, то я соврал: и не прямоугольный, и не параллелепипед, но соврал совсем немного – угол между стенами имеет порядок А1 / R << 1, где R – радиус Земли. Вот так… Так на чём это я остановился? Ах да, в восточной стене сделано окно, а окно – это…” и т.д. Вы читаете, читаете, и читаете эту ремарку, в надежде, что вот на следующей странице начнётся действие, но вы переворачиваете последнюю страницу и видите: “Стекло, из которого сделано зеркало, есть сплав…”, но чего сплав – вы так и успеваете узнать, потому что пьеса-ремарка кончилась. Свободное знание такого опуса равно нулю. Вот таково, к сожалению, громадное большинство так называемых научных статей. Вы читаете их и не можете понять, что, собственно, хочет сказать вам автор? Что зеркала делаются из стекла? Да это я и так знаю. Я, может быть, не смогу назвать той статьи, где это впервые установлено, но тем не менее я это знаю…
Отсюда можно сделать по крайней мере два полезных вывода: во-первых, что роль научной литературы в деле сообщения знаний тем, кто ими интересуется, весьма невелика. Очень значительная доля наших знаний – это научный фольклор, передающийся из уст в уста и из поколения в поколение. Во-вторых, что пресловутая проблема информационного взрыва есть результат легкомысленного отношения к ворохам ежемесячной подписки научных журналов, поскольку большая часть опубликованной информации есть информация связанная. Часто говорят: “Стало легче заново получить какой-либо результат, чем отыскивать его в журналах”, – это говорит только о том, что такой результат и не надо отыскивать. Если стало легче самому умножить семь на девять, чем отыскивать результат в литературе, это означает, что все предпосылки для такого прогресса знания готовы и всякий здравомыслящий человек может сделать этот шаг независимо. Гордиться таким продвижением и претендовать на приоритет, трубить на всю вселенную о своём открытии и негодовать на невежд, не цитирующих его – просто смешно. Публиковать же статью под заглавием “К вопросу о методе и результатах умножения семи на девять” в расчёте, что найдётся человек настолько глупый и беспомощный, что не в состоянии умножить сам, но настолько мудрый и способный, что в состоянии усвоить эту статью, – публиковать такие статьи не только смешно, но и постыдно. Настоящий, капитальный научный результат не пропадёт ни в каком ворохе связанной информации – потому что он незаменим для дальнейшего развития науки, потому что без него наука окончательно обрекается на легкомыслие… А этого всё-таки до сих пор не произошло.
Таково может быть не-легкомысленное отношение к заражённым легкомыслием научным работам. К сожалению, я никак не могу сказать, что я слышал подобные разговоры в среде научно-исследовательского мужичья – я их выдумал от начала до конца. Выдумывая эти разговоры, я рассуждал так: с одной стороны, несомненно, что 9/10 истинной научной работы заключается в получении и усвоении уже добытых сведений, с другой стороны, несомненно, что в передаче этих сведений основную роль играет не чтение статей, а личное общение, воспитание и работа в определённом научном коллективе (говорят даже, что вне научной школы не может возникнуть серьёзная работа), – то есть некие формы передачи устного научного творчества; с третьей стороны, опять-таки несомненно, что легкомыслие является определяющим элементом всего мировоззрения современного российского учёного. Поэтому для построения работоспособной теории легкомыслия, помимо перечисленных выше факторов (заборы, ненависть, которую испытывают учёные друг к другу и к своей работе, и т.д.), необходимо принять во внимание и другие, из которых я хочу остановиться на трёх: эволюционном, международном и социальном.
Эволюционный фактор в развитии науки обратил на себя внимание в связи со становлением новой физики в первой половине 20 века (а в прочих областях общественной жизни, например, в политике, на него не обращают внимания и до сих пор). Множество физиков старшего поколения (которые, собственно, и заполняют академии, учёные советы, редколлегии журналов, профессорские кафедры и составляют фасад науки) на рубеже 20-го века упорно отказывались отстать от понятия эфира, признать относительность движения и принцип неопределённости не потому, что эксперименты были неубедительны и логические доводы слабы (и то и другое осталось в целости до наших дней), а просто из-за окостенения мышления, из-за естественного падения творческих способностей в старости, из упрямства, нежелания признать своё непонимание, потерять внутреннее ощущение собственной значительности. Сторонники новой физики все эти причины прекрасно поняли и не стали тратить порох на переубеждение тех, для кого изменение взглядов было равнозначно научной смерти и кого потому переубедить невозможно. Они сказали: наши идейные противники обречены на вымирание как мамонты, на смену им идёт новое поколение, которое не имеет балласта в виде общепризнанных заслуг, авторитета, высокого положения в науке и которое воспринимает наши идеи как сами собой разумеющиеся, – и расчёт их вполне оправдался.
На этом примере впервые стало ясно, что основной принцип развития науки – не полемика и переубеждение, а смена поколений и вытеснение. Этот фактор я и называю для краткости эволюционным. До конца 19 века его значение не было заметно из-за того, что становление новых научных взглядов растягивалось на несколько поколений, на протяжении которых сосуществовали и препирались сторонники старых и новых взглядов. Тогда, похоже, главным сдерживающим фактором была разработка понятной и убедительной аргументации новых взглядов, чему способствовала полемика. Теперь же развитие науки сдерживается не столько недостаточностью аргументации, сколько косностью массы научного мужичья. Иными словами, темп развития науки приблизился к своему естественному пределу – темпу смены поколений. Никакая научная идея не может утвердиться в массах научного мужичья быстрее, чем вырастет поколение, для которого эта идея составит привычный элемент картины мира. Это такой же закон, как в теории относительности закон, что не может донос дойти до места назначения быстрее, чем со скоростью света. Попытки ускорить распространение идей при помощи определений, перемещений, увольнений и прочих административных затей столь же наивны, как попытки ускорить смену времён года при помощи тех же мер. Поэтому человек, воистину заботящийся о прогрессе науки, должен стремиться не к тому, чтобы всех рутинёров выгнали и на их место определили его, прогрессивного учёного, а единственно к тому, чтобы его взгляды были усвоены теми, кто идёт ему на смену.
Но такая радужная перспектива, при которой смена поколений является формой преемственности, реализуется далеко не всегда. Бывает и так, что все учёные, имеющиеся в данной местности по состоянию на некоторое число, на следующий день увольняются от занятий наукой посредством убийств, арестов, ссылок, перевоспитаний и прочих приёмов игры в мысль. На смену этому поколению, запятнавшему себя вредительством и любовью к свободе, приходит новое, не запятнавшее себя ничем, кроме любви к убийцам. Это новое поколение берётся за доставшиеся им учебники, овладевает ими и прилагает все силы, чтобы двинуть науку вперёд, не подозревая, что книги, которыми они овладели, знаменуют не передовой рубеж науки, а её общие места. О том, где находится передовой рубеж, молодой человек, закончивший 10 классов, может узнать только в процессе повседневной научной работы в коллективе, не заражённом маразмом. Фольклор, носителями которого были разоблачённые и расточённые предшественники, безвозвратно погиб, и наши молодые люди, не имея возможности общаться с этими самыми предшественниками, незаметно для самих себя оказались отброшенными где на пятьдесят, где на пятьсот, а где и на пять тысяч лет назад. Попытки подтолкнуть прогресс науки при помощи решительных мер, разрушающих естественную смену поколений и непрерывность фольклора, неизменно оказываются губительными, так как наука – это не приборы, не книги и не здания институтов, а только люди и живые связи между ними. Поэтому представляется естественным, что первые три-четыре поколения учёных, непосредственно следующие за моментом большого скачка, обречены на легкомыслие и мучительное его изживание, – и не столько в силу собственных пороков, сколько всем процессом становления своего как учёных: откуда им, бедным, знать, что такое наука, если из всего фольклора до них дошло только то, что до Луны – два суворовских перехода? Будем надеяться, что наши потомки будут умнее и добрее нас, хотя мой приятель Когитов-Эргосумов и любит по этому поводу приговаривать: “От свиньи родятся не бобрёнки, а всё поросёнки”.
Международным фактором в теории легкомыслия я для краткости называю следующее обстоятельство. Защитники как своего собственного, так и общероссийского легкомыслия любят повторять, что, судя по публикациям в мировой литературе, наша наука всё же занимает лидирующее положение в ряде областей, и потому несправедливы-де рассуждения, выводящие свойства нашего легкомыслия из преимуществ нашей монархии. На это я должен сказать: гордиться тем, что при демократии всё так же плохо, как и у нас – для монархиста последнее дело. Но и помимо этого общего положения, приведённое выше доказательство всеобщности легкомыслия сомнительно: во-первых, публикации лишь в слабой степени отражают действительную работу мысли; во-вторых, истинное положение вещей и фактическое, а не спортивное лидерство (то есть отношение учитель – ученик) может быть установлено только в процессе повседневного личного общения, которого не было и нет; из двух фундаторов военного интегрального исчисления кто-то обязательно выступит первым, но есть ли резон гордиться таким лидерством?
Реальное отношение между наукой шестой части и наукой прочих частей – это не игра в “догнать и перегнать”, а независимое движение – кое-где параллельное, а кое-где перпендикулярное. Поэтому между ними не может быть отношений лидерства и приоритета, так как эти слова означают не материальные предметы, а отношения между людьми, которых, повторяю, не было и нет.
Наконец, значение науки в общественной жизни – не в количестве полученных результатов и тем более не в числе написанных статей, а в той доле сознательности, которую она вносит в жизнь рядовых людей. Если потребителями науки являются сами учёные, как это имеет место у нас, то она обречена вращаться в заколдованном круге из легкомыслия, узкой специализации и ненависти к своему делу. Как обстоит дело в других местах, я не знаю, но полагаю, что делать выводы о легкомыслии всей науки целой большой страны по пяти-шести публикациям поспешно. Прилично ли науке находиться в заколдованном круге? Совместимы ли наука и колдовство? – на эти вопросы лучше всего отвечать так: существует учение, которое утверждает, что всякая вещь в любой момент времени занимает именно то место, которое ей наиболее приличествует. Учение это, конечно, похоже на сказку, но, во-первых, не следует забывать, что “мы рождены, чтоб сказку сделать былью”, а во-вторых, ясное практическое правило, следующее из него – “ничего не трогай” – с избытком окупает его недостатки. “Наука” занимает в нашем обществе именно то место, которое ей наиболее приличествует, и потому трогать мы ничего не будем, а только издали посмотрим, что же это за место.
Место деятельности мыслительной, в частности, научной, в общем балансе нашей жизни именно таково, как у зелени, которой сверху посыпают бифштекс, или одежды хорошенькой женщины: главная цель – не здесь. Бифштексы мы любим не за покрывающие их листочки петрушки, и хорошеньких женщин – не за изящество и целесообразность их одежды, а за то, что находится под ними; но поскольку об этом не всегда удобно говорить, то и говорят: “Сей бифштекс особенно ценен изысканностью украшающих его листочков петрушки, укропа, лавра и т.д.” Отнимите у бифштекса петрушку или у хорошенькой женщины одежду – что останется? Одно мясо, проза жизни. А петрушка, равно как и наука – поэзия, то есть фестончики, орнаменты и иллюзии.
Сравнение это справедливо не только внешне, но и до последней тонкости. Не знаю, как насчёт хорошеньких женщин, – я, признаться, и сам в этом деле нетвёрд, – но за бифштексы могу ручаться смело, поскольку, в отличие от многих нынешних людей, видел их собственными глазами (и не раз). Возьмём хоть экономику нашей науки: сколько средств на неё ассигнуется? какова структура этих расходов? – неизвестно. Известно только, что на каждый рубль, вложенный в науку, получается три рубля “экономического эффекта” (чтобы понять, что такое “экономический эффект”, постарайтесь представить себе магазин, в котором на каждый рубль, уплаченный в кассу, вам выдают бумагу о том, что у вас теперь три рубля в кошельке прибавилось. Не правда ли, это очень напоминает Страну Дураков и то замечательное поле в ней, на котором росли зарытые деньги, из сказки А.Толстого “Золотой ключик”?). Стало быть, из какого мяса приготовлен сей бифштекс – неизвестно, но известно, что после поедания одной его порции у нас появляются три новых. Требуются акты внедрения иллюзий на производстве…
Возьмём социологию нашей науки. Раньше, при второй династии (пользуясь терминологией Когитова-Эргосумова), всё на этот счёт обстояло просто и ясно: вверху были ожиревшие эксплуататоры, – помещики, чиновники, капиталисты, внизу – отощавшие эксплуатируемые – крестьяне, рабочие, ремесленники. Между ними находился слой лиц средней толщины – военных и гражданских слуг толстяков, к которым относились и учёные (см. рис. 1). Это было несправедливо, но зато ясно. Ладно, прогнали толстяков, разорили, истребили и расточили, – не стало их. Что же осталось? Как видно из рис. 2, теперь сверху оказались военные и учёные слуги, которые, по упоминавшейся уже теореме о максимальном элементе, оказались самыми толстыми. Нехорошо это. Как тут быть? Попробовали расточить и этих – ничего, удалось, и неплохо, чёрт возьми, удалось (см. рис. 3). Но без военных и учёных слуг государство, то есть аппарат организованного насилия, существовать не может, – и вот явились новые слуги, нисколько не похожие на прежних людей средней толщины, имеющие подтянутый живот, чистые руки, горячее сердце и холодную голову, словом, не слуги толстяков, но слуги народа. Куда же их поместить на наших рисунках?
Ну, с военными слугами всё оказалось просто: они устроились себе как бы на отдельной планете (см. рис. 4) и никаких колебаний по этому вопросу никогда не было. Но вот куда поместить учёных слуг, пролагающих дорогу для человечества не серпом и не молотом, но бесстрашием в обращении со входящими и исходящими номерами? Поместить их сверху, как на рис. 2 – плохо; непонятно тогда, за что боролись? Поместить их снизу, как на рис. 5 – тоже нехорошо, отсталость выходит. Поместить их справа (рис. 6) – выходит “правый уклон”, слева (рис. 7) – “левый уклон”, и всё одинаково плохо.
Тогда, в соответствии с пословицей “хто топиться, той за лезо вхопиться”, был найден единственно правильный выход: интеллигенция (учёные слуги) есть прослойка! Все вздохнули облегчённо и на первых порах не придали значения тому, что ухватились голыми руками за лезвие. А ведь если пословица имела в виду лезвие обычного кухонного ножа, острое только с одной стороны, то и об него можно пораниться! Хорошо, интеллигенция – прослойка, но между чем и чем прослойка? Прослойка, по точному смыслу этого слова, есть нечто, лежащее между двумя основными слоями. Между чем же лежит наша прослойка? Между рабочими и крестьянами (рис. 8)? Но всякому ясно. что это не так; серп, молот и исходящий номер не только не представляют собой однородных членов, но даже более, – исходящий номер не представляет собой и переходного звена от серпа к молоту. Говорят, что это хотя и неясно; но зато справедливо, но я полагаю, что это враньё, так как там, где нет ясности, не может быть и справедливости, и вообще называть человека “прослойкой” (равно как и “слоем”) может только закоренелый человеконенавистник.
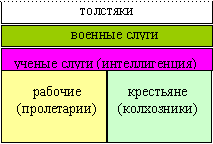
|
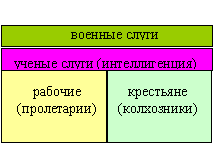
|
| Рис. 1. Социальная структура российского общества в конце второй династии | Рис. 2. То же – сразу после переименования |

|
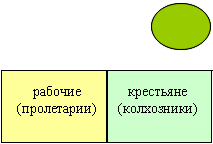
|
| Рис. 3. То же – после прекращения течения времени | Рис. 4. Первыми нашли себе точку опоры военные слуги… |
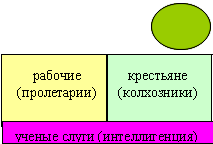
|
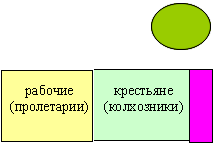
|
| Рис. 5, иллюстрирующий отсталость интеллигенции | Рис. 6, иллюстрирующий правый уклон интеллигенции |
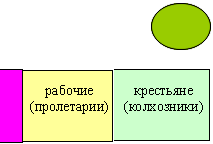
|
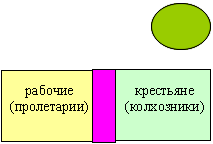
|
| Рис. 7, иллюстрирующий левый уклон интеллигенции | Рис. 8, иллюстрирующий прослоечное положение интеллигенции (он же при необходимости может иллюстрировать её центризм) |
Поэтому никакой даже действительный учёный не аттестует себя так: “Я-де учёный, то есть человек, который думает”, а непременно скажет, что он кавалер таких-то орденов, лауреат таких-то премий, депутат таких-то парламентов или, на худой конец, служит в таком-то департаменте. Стало быть, и кавалер, и лауреат, и депутат – все они главнее учёного и служат лучшей аттестацией; “учёный” же может рассматриваться как орнамент на лауреате или депутате.
Если же говорить о роли науки в общественном сознании, то здесь прежде всего необходимо помнить о том, что никаких мыслей (в том числе, разумеется, и научных) в нашем отечестве никогда не было, нет и не может быть: нет проблем в нашей жизни, а если они и возникают, то разрешаются не усилием мысли, а обращением за инструкциями к начальству. Таков бифштекс. Сверху по нему рассыпана петрушка, то есть мысль научная, укроп, то есть мысль литературная, и т.д. Нет мыслей, а есть только упражнения в чистописании и чистоглаголании на заранее заданную тему и с заранее известным выводом: “А дальше – не наше дело”.
Итак, состояние науки нашей не может не быть жалким и люди, которые говорят о её цветении, просто не умеют отличать науку от легкомыслия. Их пленяют размеры зданий департаментов, многочисленность служащих (которые в графе “социальное положение” так и пишут “служащий”), изобилие отчётов о цветущем состоянии и необходимости его коренного улучшения, изобилие публикаций и т.д. Так зачем же всё-таки пишутся статьи?
Главная причина, по которой люди пишут статьи – та, что в известных жизненных обстоятельствах не писать их невозможно. Это хотя и похоже на каламбур, но тем не менее заключает в себе всё: будучи администратором – нельзя не делать распоряжений, будучи моряком – нельзя не плавать, будучи сотрудником департамента открытий… Почему нельзя не делать распоряжений – это вопрос непростой, так что лучше сразу перейдём ко второстепенным причинам.
Из второстепенных причин главная та, что все люди, так или иначе прикосновенные к производству статей научного вида – чиновники. Чиновник же, говоря абстрактно, есть человек, для которого существо дела не играет роли, а важна только форма его. Например, человек, пишущий статью под названием “О применении гречневой каши в народном хозяйстве”, не интересуется указанным предметом как таковым; нет, он просто сознаёт себя служащим в департаменте гречневой каши и именно в этом качестве имеет с нею дело. Перейдёт он на службу в департамент голландского сыра – и тут будет приносить пользу отечеству.
В нашем обществе, в основном под влиянием повести Стругацких “Понедельник начинается в субботу”, сложилось чрезвычайно розовое представление об учёных, как о людях, денно и нощно отыскивающих истину и забывающих за этим занятием еду и сон. Таких людей уместнее называть подвижниками, а не чиновниками. Но я заявляю со всей ответственностью, что такое представление совершенно неверно. Во-первых, сами авторы, чувствуя в своём повествовании натяжку, в послесловии приносят по этому поводу оправдания. Действительно, и Модеста Матвеевича Камноедова, и Амвросия Амбруазовича Выбегайло, и Кербера Псоевича Дёмина я встречал, и притом неоднократно, – даже в пределах нашего департамента я могу указать их поимённо в нескольких экземплярах; но остальные… Во-вторых, в повести этой нет открытой лжи, но есть очень сильное преувеличение тех росточков нового отношения к науке, которые начали произрастать в феврале 1956 года и закончили в ноябре 1964 года; наша литература вообще склонна выдавать желаемое начальством за действительное, и в этом случае Стругацкие не избежали общего греха. В-третьих, если и подлинно за эти восемь лет успели вырасти люди нового типа, то я никого из них в натуре не застал, и потому говорить о серьезном, глубоком и длительном общественном значении этого типа невозможно. В-четвёртых, произрастание этого типа было обусловлено необходимостью создать ядерное оружие, не только не уступающее, но и значительно превосходящее лучшие мировые образцы, и как скоро оно было создано, дальнейшая необходимость в свободе, хотя бы только для научного познания, отпала. Институт в повести Стругацких занимается проблемами человеческого счастья, и отдел оборонной магии в нём до того захудал, что не числит ни одного живого человека, но ведь было время, когда он процветал, когда все нынешние корифеи НИИЧАВО отдали дань этой тематике, когда, наконец, в этом отделе зародилась и была внедрена в практику идея трёхфазного термоядерного заряда. Было всё это, и представить себе учёного нового типа не понимающим значения этого факта – уже не вполне правда. Потому надо признать академика Сахарова наиболее законченным образцом этого нового типа, образцом, превзошедшим всех персонажей повести. Стругацкие, с одной стороны, идеализируют своих героев, а с другой – ставят этот идеал на ступеньку, которую подлинно лучшие люди уже прошли. Потому повесть их зовёт не вперёд, а в сторону, – но, к счастью, именно в ту сторону, в которую нужно, потому что кому же, спрашивается, нужны такие учёные, как Сахаров?
Нет, подвижников в российской науке не существует, а существуют чиновники различных учёных департаментов, которые если и забывают за писанием еду и сон, то единственно потому, что в нашем отечестве доблестная и беспорочная служба никогда не остаётся без вознаграждения. Главная же награда для чиновника – это повышение в чине, с тем чтобы с течением времени добраться до такой ступеньки, где уж вовсе ничего делать не надо. Поэтому если я вижу человека, тратящего всё свободное время на писание статей, то я определённо знаю: это человек, который не удовлетворён своим чином и надеется заслужить более высокий. Если же я вижу человека, приходящего и уходящего с работы по звонку (как это заведено в научных департаментах), то я знаю: этот человек своим чином доволен и потому счастлив. И таких счастливцев – великое множество; не потому ли не оскудевают учёные департаменты талантами, что тут так просто созидается счастье? Таким образом, главный автор статей у нас – это чиновник учёного департамента, делающий карьеру. Этапами этой карьеры являются звания кандидата в учёные (младшего учёного) и действительного учёного (старшего ученого). Правилами приличия установлено, что младший для получения звания должен написать хоть пять статей, старший – не менее сорока (цифры примерные, но само существование подобных норм не подлежит сомнению; спросите любого чиновника, причастного к раздаче этих званий, о величине этих чисел – и он немедленно отошлёт вас к пункту инструкции, где чёрным по белому ничего не сказано об их существовании. Но ссылка на этот пункт – не что иное как враньё, подрывающее всякую порядочность в отношениях между людьми). Каждый чиновник имеет право служить доблестно – от этого служба только выигрывает; поэтому когда я вижу статью о внедрении гречневой каши, то я подозреваю: “Наверное, подлинное её название – ‘Я тоже хочу стать кандидатом’. Но разве я против того, чтобы такой-то стал кандидатом? Нет, не против. Следовательно, имею ли я право негодовать на то, что статья его глупая, ошибочная, легкомысленная? Нет, не имею; вот если бы я был против повышения такого-то в чине, тогда да”.
Во всяком правильно организованном департаменте чётко налажено продвижение чиновников по службе и каждому в перспективе обещано место директора. Поскольку указанное продвижение сопровождается определёнными обрядами, то являются и побочные продукты этих обрядов: в департаменте порядка – распоряжения, в департаменте морских глубин – плавания, в департаменте каши – статьи (не каша, увы…). Количество и качество указанных побочных продуктов является также и мерилом оценки качества работы как департамента в целом, так и его отделений, соревнования отделений между собой. Могут ли соревноваться между собой отделения твёрдых сыров и плавленых сыров в рамках одного департамента сыроваренных наук? Если смотреть на дело по существу, – ясно, что не могут, потому что нельзя сопоставлять результаты, относящиеся к столь различным объектам. Но с точки зрения количества выпускаемых статей и их качества (толщины, белизны бумаги и т. д,) – не только могут, но и фактически сопоставляются. Чиновники отделения твёрдых сыров в 11 статьях решили 21 задачу, а чиновники отделения сыров плавленых – в 7 статьях 16 задач. Вот и рассудите, которое из отделений лучше?
Итак, ревностно служить отечеству для чиновника учёного департамента – это писать как можно больше статей (и, разумеется, ездить в колхоз – без этого тоже нельзя!). Посмотрим теперь, каков дальнейший путь статьи.
Прежде всего, написанная статья передаётся в департамент доведения до сведения, где рассматривается, не открыто ли в ней чего-нибудь необыкновенного (в случае обнаружения последнего она передаётся в департамент открытий для представления автора к награде). Буде ничего сверхъестественного не случится, затем статья попадает в департамент обнародования, где и печатается в надлежащем числе экземпляров. После того один из экземпляров возвращается в исходный департамент, где и заносится в реестр опубликованных работ. Вот это и есть тот самый пресловутый “конечный результат”, которого так усиленно и так успешно добиваются различные научные начальники (как будто может быть конечный результат в бесконечном процессе познания!). Здесь земной путь статьи завершён. Дальше роль статьи с успехом выполняет ссылка на реестр. Поскольку во всех промежуточных департаментах сидят очень милые люди, тоже ничего не имеющие против повышения такого-то в чине, то опубликование никогда не встречает никаких помех, разве что в очереди пару лет придётся постоять, но ведь без этого тоже нельзя – желающих выслужиться много, а возможности департамента обнародования ограничены… Нет никакой выгоды писать именно легкомысленные статьи, но нет никакой выгоды писать глубокомысленные. Движение мысли происходит само по себе, работа департаментов – сама по себе.
Таким образом, научное легкомыслие – проблема не специально научная, а социальная. Филиппу Рылобейщикову, не признающему закона Ома, ничего не стоило бы сказать “пошёл вон” – достаточно просто сказать: “Идите, молодой человек, и знайте, что в нашем отечестве человек, не твёрдый в законе Ома, не достоин носить чин кандидата”, – но ведь при нынешних порядках на место Рылобейщикова непременно заявится Еремей Сорокоплёхин, который, пожалуй, и в электрический ток-то не верит. Ну где же это видано, чтобы человека лишать жизни за то, что он не может электрического тока превзойти?
Но если не делать произвольного и надуманного различия между людьми, верящими в закон Ома, и людьми, в него не верящими, и признать за ними равное право на звание ученых и на принесение пользы отечеству, то картина выйдет не только не удручающая, но умилительная: во всех учёных департаментах писаря и курьеры в свободное от подметания улиц время стоят смирно; младшие учёные в это же свободное время пишут; старшие учёные морщат лбы и вообще изображают на лице работу мысли; и все горят желанием отличиться, у всех одна мысль: “Какое бы такое враньё выдумать, чтоб внимание начальства на себя обратить?” А если сверху ещё начертать лозунг: “Превратим науку в непосредственную лгательную силу”, – то тут уж выйдет такое очарование, что даже “Фрина на празднике Посейдона” академика Семирадского с ним не сравнится.
Служить по ведомству влияния количества и качества свёклы на цвет борща можно до самой пенсии – и ни один суд в мире никогда такого чиновника ни в чём не изобличит. Представим себе слушание дела по обвинению в легкомыслии, на котором прокурор говорит: “Подсудимый виновен:
1. Зная о том, что количество свёклы в борще определяется не выводами науки, а на глаз, он занимался оптимизацией этого количества как предметом неизвестным и представляющим общий интерес.
2. Он вводил в заблуждение научную общественность, называя ‘тушёной’ свёклу, обжаренную в подсолнечном масле.
3. Он не осмысливал результаты своих исследований и не устанавливал связи между ними и общим течением жизни.”
Адвокат же ему отвечает: “Но разве мой клиент виноват в повсеместном употреблении глазомера? Он поступал в этом случае как истинный учёный, то есть прямо брал то, что лежит под ногами, и предавал его тиснению. Что же касается второго пункта, то здесь обвинение противоречит самому себе. Несколько выше оно утверждало, что статей моего подзащитного никто не читал; как же он мог в этом случае ввести в заблуждение? Что же касается третьего пункта, то вспомним утверждение обвинения: никакой связи между научными результатами подзащитного и жизнью нет, – следовательно, неустановление такой связи не только не является преступлением, но даже может быть поставлено ему в заслугу. В этом случае мой клиент поступал как истинный чиновник. В его обязанности входило: утром приходить на службу, а вечером уходить; дважды в месяц не забывать получать в кассе деньги; сверх того, каждые три года представлять отчёт. Всё это он делал ревностно и был образцом для сослуживцев. Меня удивляет вопрос господина прокурора: разве существуют в нашем отечестве законы, которые обязывают мыслить? я скорее думаю, что существуют законы, которые в известных обстоятельствах мыслить запрещают, но эти законы известны, вероятно, господину прокурору гораздо более, чем мне…”
Ужели найдётся в целом мире суд, который не признает полной правоты легкомыслия и не выдаст ему грамоту: “Аттестуется с похвалой. Ври и будь свободен от меры?” Нет в этом деле преднамеренности, нет совести, нет вменяемости, а есть одна невинность. А если право легкомыслия на существование признано в судебном порядке, то можем ли мы, партикулярные люди, не признавать его?
“…Так зачем же мне с честными людьми расходиться? Отчего им не сделать угодное? Ничего, можно… Если бы меня хороший человек стал допрашивать о вещах, всем известных, и уверять, что я должен ответить, так отчего же и не ответить? – Волжский ли разбойник был Стенька Разин? – Волжский! – Золото ли дороже серебра? – Дороже! – Должно ли поощрять разбой на больших дорогах? – Не должно!.. Ставши на такую точку зрения, я дохожу до того, что даже вообще одобряю легкомыслие” [Н.А.Добролюбов].
– Ну это всё критика да критика (если не злопыхательство), а каковы же ваши предложения, – спросит читатель. – Вы утверждаете, что существующий мундир несколько повытерся на сгибах – чем же вы предлагаете подлатать его? Какими шевронами и обшлагами надлежит снабдить мундир, чтоб наука в нём могла почитать себя от легкомыслия в безопасности? Или вам кажется, что “россияне утратили вкус к мундирам и никто не может сказать определённо, какого шитья ему хочется?” [М.Е.Салтыков]
Ответ мой состоит в следующем. То, что наши мундирные желания и идеалы смутны и расплывчаты – согласен; но чтоб утратить вкус к мундирам – ни боже мой! Не от утраты вкуса происходит смутность, а от избытка доверия к мундиротворцам: чем вы нас ни подарите – мы всему будем рады! Поскольку единственная практическая почва у нас – это почва мундиров, то и я дерзаю подать своё мнение об оптимальной форме воротников и петлиц. Именно я полагаю: чтоб наука наша была подлинно наукою, а не исконною российскою петрушкой, и чтобы быстрым разумом Невтонам без помехи процветать было можно, необходимо обеспечить:
1. Иллюзию сытости – как повседневной, так и исторической, как индивидуальной, так и общенародной. Сатур вентур нон скрибент либентур, говорили древние римляне, что в переводе на наши нравы значит: зачем же ещё наука, коли я и так сыт?
2. Иллюзию уверенности в будущем – без исторической перспективы никакая работа мысли невозможна.
3. Иллюзию свободы телодвижений – мысль сама найдёт, чем ей заняться.
4. Иллюзия свободы слова – так как мысль, не выраженная словами, не внесённая в общий круговорот общественного сознания, просто не существует.
Ежели эти иллюзии будут созданы, тогда иллюзия процветания науки возникнет сама собой и превратится в непосредственную производительную силу.
Конец “Научного легкомыслия”.
